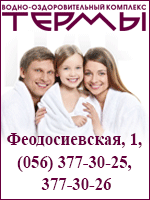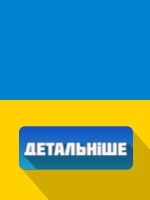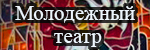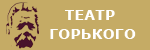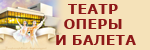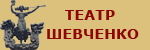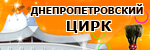Гостем очередного выпуска программы «Культпросвет» на 34 канале был известный днепропетровский поэт, писатель, сценарист, переводчик и культуролог Семен Заславский. Гостем очередного выпуска программы «Культпросвет» на 34 канале был известный днепропетровский поэт, писатель, сценарист, переводчик и культуролог Семен Заславский.
Его поколение называют шестидесятниками. Что же было в душах людей, молодость которых выпала на те годы? Что же такого было в самом воздухе пятьдесят лет назад? Наверное, то состояние можно назвать одним словом – весна. Позади -- страшная война, голод и разруха. Впереди, как всегда, мечты. При чем о светлом будущем. На дворе -- хрущевская оттепель, бум образования, полет человека в космос. Не израсходованный за несколько кровавых десятилетий творческий потенциал выплеснулся наружу. Романтизм, возведенный в ранг религии, заполнил молодые, энергичные и истосковавшиеся по воздуху души. Великие стройки, костер, гитара, кеды, походы, палатки. Стихи Рождественского и Евтушенко.
Сегодня шестидесятникам самим шестьдесят. Но это не временное явление. И сегодня люди, родившиеся в 60-е годы, собираются в клубах. Снова со сцены звучит бардовская песня и поэзия. Есть и костер, и гитара, и рюкзак, и живая романтика. Правда, в глобальном масштабе она из религии превратилась в секту. Сегодня большинство поклоняется телу, а не духу. Шестидесятники слетаются как на свет костерка в редких очагах культуры, будь-то фестиваль бардовской песни, вечер поэзии или туристический сбор. Пусть не каждый – Окуджава. И пусть уже не всем восемнадцать. Но в каждом человеке есть то, что не стареет – дух. Отними его, и нет человека. Именно дух, а не логика толкает на безумные поступки, которые потом изучают в школе и на курсах психиатрии.
Сейчас много говорят о свободе, но обычный студент 60-х был куда свободней сегодняшнего человека. Он был сам собой, он был свободен от цепей потребительства, от решеток бизнес-этикета и гильотины безысходной бедности. Друзья, мечты, небо. Вот потребительская корзина шестидесятника. Именно это наталкивает на мысль, что такое явление уже никогда не повторится… Вот об этом и говорили представители разных поколений.
Гельфер: -- Семен, наша программа всегда начинается с отдела кадров. Поэтому попросим вас ответить на ряд вопросов. Где вы родились, в какой семье?
Заславский: -- Я родился в Днепропетровске после войны. И здесь, собственно, формировался. Потом был период, когда я жил в Ленинграде, а в 90-х годах вернулся в родной город.
Петренко: -- Где вы учились?
Заславский: -- Окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. В застойные годы очень много работал в археологических экспедициях.
Петренко: -- Ваши впечатления о современном искусстве. Когда вы плачете или смеетесь? Может, вспомните конкретные примеры?
Заславский: -- Самое первое сильное впечатление на меня произвел «Кобзарь» Тараса Шевченко и строчки «Не спалося, а ніч як море..». Мне тогда было всего 12 лет, но я вдруг почувствовал какой-то священный ужас перед бесконечностью поэзии и музыки, заключенной в этих строчках.
Гельфер: -- Мы все помним 60-е годы. Но если не все, то многие наши телезрители помнят эпоху, когда поэты собирали стадионы. И все, кто приходил на эти встречи, просто дышали одним воздухом. В чем разница между Днепропетровском шестидесятых прошлого столетия и сегодняшним?
Заславский: -- Мы стали жить в более свободном обществе, однако в менее склонном к искусству и культуре, потому что культурное общество предполагает не только заинтересованность того или иного художника, писателя, но, прежде всего зрителя и читателя. Так вот сегодня последние исчезают. Пишущих и музицирующих людей может быть масса, но та открытость людям, которая существовала в эпоху оттепели, исчезла. Мы живем в более эгоистическом обществе, направленном на потребительство, а не на сочувствие и отклик, рождающиеся искусством.
Петренко: -- То есть вы предлагаете всю ответственность возложить на читателя? А насколько сегодня поэт хочет быть услышанным? Является ли он тем, кто будоражит общество?
Заславский: -- Дело в том, что заинтересованность общества в художнике, к сожалению, очень мала.
Гельфер: -- Давайте определимся -- общества или государства? Это все-таки разные вещи.
Заславский: -- Государство – более отвлеченное понятие.
Гельфер: -- По-моему, наоборот, конкретное.
Заславский: -- В свое время был создан феномен советской культуры. И вот уже внутри нее появился разъедающий диссидентский элемент, которому и я отдал дань в свое время. В результате на наших глазах произошел слом огромного Материка...
Гельфер: -- И получилось болото…
Заславский: -- Наверное, в этом болоте тоже что-то произрастает.
Гельфер: -- Или что-то водится.
Заславский: -- Кто знает, возможно, это подготовка для последующих глубинных задач искусства.
Петренко: -- А, может, проблема культуры – это проблема не государства, а деятелей культуры?
Заславский: -- Вопрос, связанный с украинской культурой, очень серьезный, потому что ее идентичность отстаивалась на протяжении двухсот лет. И для того, чтобы отстоять ее, чтобы доказать ее право на существование, было принесено очень много жертв. Мы не можем говорить о культуре, как о бедной или богатой. Она совершенно другая. Жаль, что сегодня очень многие спекулируют национальным чувством, а значит, то, что раньше было искренним и чистым, теперь -- продукт и товар.
Петренко: -- Как вы ощущаете себя в обществе? Для чего вы пишете? По-вашему гений – это человек, который выражает общее чувство и общее настроение.
Заславский: -- Выражает общий дух, присущий народу.
Гельфер: -- Чтобы приобщиться к чему-то, нужно приложить усилия. А сейчас мы окружены форматами, предлагающими легкий вариант того или иного продукта. Потому человек не хочет трудиться духовно, тем более, если он целый день трудится физически. И в результате душа скукоживается.
Заславский: -- Душевный труд был безусловным, когда общество к нему было готово. Когда в нем нуждались. А теперь нужды в нем нет. Что касается поэзии, она не может быть готовым продуктом. Она всегда в процессе становления. Помните, у Тараса Григорьевича «Думи мої, думи, лихо мені з вами, Нащо стали на папері сумними рядами…» Возможно, ему шел голос свыше, и он не мог не писать, хотя был удачливым живописцем. Однако, что-то же ему диктовало именно эти строки? Поэтому он и состоялся как национальный гений.
Гельфер: -- Семен, помимо всего прочего вы еще и переводчик. Мне лично очень интересны ваши переводы великих грузинских поэтов. Скажите, с чем связан тот факт, что поэты снова и снова обращаются к уже переведенным строчкам?
Заславский: -- Это связано с бесконечностью поэтического текста и того поэтического мотива, который существовал даже задолго до того, как писатель взял в руки перо. Через какое-то время текст проходит и через музыканта, и исполнителя, которые в свою очередь вносят какие-то вариации. Например, все знают замечательный перевод Бориса Пастернака стихотворения Николаса Бараташвили «Синий цвет», но когда лично познакомился с оригиналом, вдруг увидел, что там совершенно другая ритмическая основа. Более элегическая. И ее невозможно передать пляшущим хореем. Например, у Пастернака «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал Синеву иных начал». Я перевел эти строки так: «Синий цвет неземной. Цвет лазури родной. Твой стоит окаем В детстве милом моем».
Гельфер: -- Будет уместно, если вы нам прочтете хотя бы отрывок из вашего перевода великого «Заповіта» Тараса Шевченко.
Заславский: --
Как умру, похороните
В поле у кургана.
Пусть землею Украины
После смерти стану.
Чтоб увидеть даль степную
Над Днепром могущим.
Да почуять у обрыва
Как взревет ревущий.
Пусть он смоет с Украины
Ненависть людскую.
Унесет поток кровавый
В синеву морскую.
Гельфер: -- Спасибо, Семен. Если сегодня звучат такие стихи и ведутся такие разговоры, значит, настанут времена, о которых мечтал Тарас Григорьевич. И мы будет стараться их приблизить.
Насколько сложно перевести чужие мысли? Сложно, но вполне реально. Если, скажем, Шевченко, создавая «Кобзаря» был непосредственным свидетелем эпохи, ее быта и культуры, то как это может изложить современный человек? Как можно передать цвет, аромат, космос? Можно, если мы рассматриваем поэзию как дар свыше, как состояние души, как ирреальную действительность. Это означает, что все талантливые люди находятся в диапазоне одной волны. Стало быть, для настоящих поэтов язык не столь уж важен. У них иной язык, а ритм и звук стиха иногда выразительней смысла. Такое предположение вполне оправдывает переводы. Более того, иногда можно встретить перевод более гениальный, чем оригинал. Но тогда это уже не перевод, а самостоятельное произведение.
Язык поэзии интернационален. Но наслаждаясь пением соловья, нам не интересен смысл его песни. Слушая морской прибой, мы не думаем о том, что же нам говорит море. А вот вчитываясь в строки, мы ищем смысл, потому что слова – не только звук. Слова – это краски. И переложить эти краски на новое полотно, значит, быть художником вдвойне.
Все творческие предложения ждут по тел.: 789 70 75 или по электронному адресу: prosverkultdnepr@ukr.net
Записала Ассоль ОВСЯННИКОВА
Посмотреть видео-запись передачи можно тут.
Источник - ИА РИЦ.| Просмотров: 2093 Tweet
|